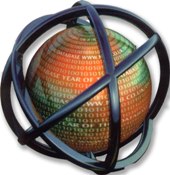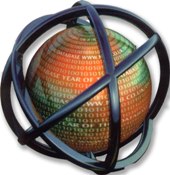–•―é–Μ―¨ –£–Β―Ä–Ϋ
–ü―è―²―¨―¹–Ψ―² –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –±–Β–≥―É–Φ―΄
–™–¦–ê–£–ê –ü–ï–†–£–ê–·. –€―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä–Ψ–Φ –®–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ
βÄ–ê ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –≥–Α–Ζ–Β―²―΄!¬†βÄî –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä, –Ψ―²–Κ–Η–¥―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Κ―É –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Α.
–Θ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ―É ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ ―¹ ―¹–Α–Φ–Η–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι,¬†βÄî ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ―²–¥―΄―Ö–Ψ–Φ. –î–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―É –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ―É –Φ–Η–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Μ–Β―². –ï–≥–Ψ ―è―¹–Ϋ―΄–Β –Ε–Η–≤―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Η―Ü–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ψ―΅–Κ–Ψ–≤ –≤ ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Β. –£―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É, ―É–≤–Η–¥–Α–≤―à–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ –Μ–Η―Ü–Ψ, –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ!
–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α―¹, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –≤–Ψ ―³―Ä–Α–Κ–Β ―¹ –±–Β–Μ―΄–Φ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Ψ–Φ, –Η ―â–Β–Κ–Η –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ –≤―΄–±―Ä–Η―²―΄.
–£ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ―¹–Η–¥–Β–Μ, –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄ –≤ –ë―Ä–Α–Ι―²–Ψ–Ϋ–Β, –≤―¹―é–¥―É –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Ϋ―΄ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄: ¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Φ–Β―Ä", βÄû–î–Β–Ι–Μ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³βÄ€, βÄû–î–Β–Ι–Μ–Η –Ϋ―¨―é―¹βÄ€ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β, –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Α―Ö –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É, –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≤―Ä–Β. –ß–Α―¹―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ–Η –¥–Β―¹―è―²―¨, –Α –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä ―É–Ε–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –Η, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―¹―²―¨ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Α–Ζ–Β―²–Α―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―΅–Β―² –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Β. –Δ–Β–Φ–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β βÄî ―¹―΅–Β―²―΅–Η–Κ –Κ―Ä–Ψ–≤―è–Ϋ―΄―Ö ―à–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤.
–ü–Β―Ä–Β–¥ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Β, –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―¹–Α–Μ―³–Β―²–Κ–Ψ–Ι, –¥―΄–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―΅–Α―à–Κ–Α –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–≥–Ψ ―΅–Α―è, –Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Β –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ―è―²–Α―è ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Ψ―²–Μ–Β―²–Κ–Α –Η –Ω–Ψ–¥–Ε–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Β–Ϋ–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è―é―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä―è–Ω―É―Ö–Η –Η–Ζ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö ―Ö–Μ–Β–±―Ü–Β–≤, –≤―΄–Ω–Β–Κ–Α–Β–Φ―΄―Ö –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –±―É–Μ–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.
βÄ–î–Α,¬†βÄî –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ,¬†βÄî –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨. –†–Β―΅―¨ –≤–Η―Ü–Β-–Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α, –Ψ―²–≤–Β―² –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ß–Η–Κ–Ψ–Ϋ―¨―è –Η–Ζ –ù–Β–Α–Ω–Ψ–Μ―è, –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α βÄî –≤―¹–Β ―¹―Ö–≤–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Β―²―É, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―É –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ―É –Η–Ζ –î―É―ç. –Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι ―΅–Μ–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―É, –Ψ–Ϋ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –Κ –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η: βÄû–ü―Ä–Ψ―à―É –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―É –Φ–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―é ―¹–Β–±–Β ―ç―²―É –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ –≤–Α–Φ, –≤–Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –±―É–¥–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Ψ–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, ―΅–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β –Η–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ω–Ψ-–Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–ΗβÄΠβÄ€ –‰ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ω―è―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–±―Ü–Ψ–≤ –Ω–Β―²–Η―²–Ψ–Φ βÄî –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²―΅–Β―² –Μ―É―΅―à–Β: βÄû–Δ–Α–Ι–Φ―¹–ΑβÄ€ –Η–Μ–Η βÄû–î–Β–Ι–Μ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³βÄ€. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―΅–Β―²–Κ–Ψ―¹―²―¨ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β!
–£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ω―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è ―ç―²–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –≤ –¥–≤–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ―¹―²―É―΅–Α–Μ–Η, –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Α–Κ–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ω–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Ι–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Ψ―¹–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –≤–Η–¥–Β―²―¨ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ϋ―¹―¨―é¬Μ, –Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –Β–Φ―É –≤–Η–Ζ–Η―²–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ―É. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Φ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α―²―¨ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Ψ–≤ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ϋ―¹―¨―é¬Μ, ―²–Α–Κ –Ε–Β –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Η―Ö ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ–Φ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ―¹–Η–Ϋ―¨–Ψ―Ä¬Μ, –Α –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α ¬Ϊ–≥–Β―Ä―Ä¬Μ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –Η –Ω―Ä–Α–≤―΄, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―ç―²–Α ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ: ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―² –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Α.
–î–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ, –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, –≥–¥–Β ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι –¥―É―à–Η, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹, –≤–Η–Ζ–Η―²–Ψ–Φ, –≤–Ζ―è–Μ ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Α –≤–Η–Ζ–Η―²–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ―É –Η ―¹ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Μ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β:
–€–Η―¹―²–Β―Ä –®–Α―Ä–Ω βÄî ―¹―²―Ä―è–Ω―΅–Η–Ι. 93, –Γ–Α―É―²–≥–Β–Φ–Ω―²–Ψ–Ϋ-―Ä–Ψ―É. –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ.
–û–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä―è–Ω―΅–Η–Ι ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―² ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É¬Μ, –Η–Μ–Η, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É ―¹–Φ–Β―à–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Φ―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ―²–Α―Ä–Η―É―¹–Ψ–Φ –Η –Α–¥–≤–Ψ–Κ–Α―²–Ψ–Φ.
¬Ϊ–ö–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―Ä―²–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –®–Α―Ä–Ω―É?¬†βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ.¬†βÄî –€–Ψ–Ε–Β―², ―è, ―¹–Α–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è, ―É–Ε–Β –≤–Ω―É―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ?¬Μ
βÄ–£―΄ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β?¬†βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ.
βÄ–û –¥–Α, –Φ–Ψ–Ϋ―¹―¨―é, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.
βÄ–ù―É ―΅―²–Ψ –Ε, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β.
–Π–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Ι–Φ–Β―¹―²–Β―Ä ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Ϋ―É–Μ –¥–≤–Β―Ä―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Α –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ ¬Ϊ–Φ–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Β―â–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Β―Ä―΄–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –≥–Μ–Α–Ζ–Κ–Α–Φ–Η, ―¹ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Φ–Η, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―Ö―à–Η–Φ–Η –≥―É–±–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, ―Ä–Α–Ζ–¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨, –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Μ–Η ―Ä―è–¥ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Β–Μ―΄―Ö –Ζ―É–±–Ψ–≤; –≤–Ω–Α–Μ―΄–Β ―â–Β–Κ–Η, –Ψ–±―²―è–Ϋ―É―²―΄–Β –Ω–Β―Ä–≥–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ε–Β–Ι, –Η –Ζ–Β–Φ–Μ–Η―¹―²–Ψ-―¹–Β―Ä―΄–Ι ―Ü–≤–Β―² –Μ–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Β–Φ―É ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―¹ –Β–≥–Η–Ω–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Φ–Η–Β–Ι, –Η –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ―è―²–Ψ–Β –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –ï–≥–Ψ ―²–Ψ―â–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –¥–Ψ –Ω―è―² –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ –Κ–Μ–Β―²―΅–Α―²―΄–Φ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ –Ϋ–Α –±–Α–Μ–Α―Ö–Ψ–Ϋ –Ω–Α–Μ―¨―²–Ψ. –£ ―Ä―É–Κ–Β –Ψ–Ϋ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Κ–≤–Ψ―è–Ε –Η–Ζ –Μ–Α–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ε–Η.
–£–Ψ–Ι–¥―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É, –Ψ–Ϋ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Α–Κ–≤–Ψ―è–Ε –Η ―Ü–Η–Μ–Η–Ϋ–¥―Ä –Η, ―É―¹–Β–≤―à–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―²―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è.
βÄ–Θ–Η–Μ―¨―è–Φ-–™–Β–Ϋ―Ä–Η –®–Α―Ä–Ω –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ―¨–Ψ–Ϋ ―³–Η―Ä–Φ―΄ ¬Ϊ–ë–Η–Μ–Μ–Ψ―É―¹, –™―Ä–Η–Ϋ, –®–Α―Ä–Ω –Η –ö―ë¬Μ. –· –Η–Φ–Β―é ―΅–Β―¹―²―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ–Α?
βÄ–î–Α,―¹―É–¥–Α―Ä―¨.
βÄ–Λ―Ä–Α–Ϋ―¹―É–Α –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Μ–Η?
βÄ–£–Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.
βÄ–‰–Ζ –î―É―ç?
βÄ–î–Α, ―è –Ε–Η–≤―É –≤ –î―É―ç.
βÄ–û―²―Ü–Α –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Μ–Η –‰―¹–Ι–¥–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ?
βÄ–Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ.
βÄ–‰―²–Α–Κ, –Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Μ–Η –‰―¹–Ι–¥–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–Α―ç–Β–ΫβÄΠ –€–Η―¹―²–Β―Ä –®–Α―Ä–Ω –≤―΄–Ϋ―É–Μ –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É, –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –≤ –Ϋ–Β–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ:
βÄ–‰―¹–Η–¥–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ ―É–Φ–Β―Ä –≤ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –Δ–Α―Ä–Α–Ϋ ―à–Β―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α, –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² ―΅–Β―²―΄―Ä–Β, –≤ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ ―à–Κ–Ψ–Μ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ―΄–Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ψ.
βÄ–£―¹–Β ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ,¬†βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä, –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–¥–Η–≤–Μ―è―è―¹―¨,¬†βÄî –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²–Β –Μ–Η –≤―΄ –Φ–Ϋ–ΒβÄΠ
βÄ–€–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α –•―é–Μ–Η –¦–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Μ―¨,¬†βÄî –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –®–Α―Ä–Ω,¬†βÄî ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –ë–Α―Ä-–Μ–Β-–î―é–Κ, –¥–Ψ―΅―¨ –ë–Β–Ϋ–Β–¥–Η–Κ―²–Α –¦–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Μ―¨, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ ―²―É–Ω–Η–Κ–Β –¦–Ψ―Ä–Η–Ψ–Μ―¨ –Η, –Κ–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¹―è –Ω–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α–Κ―²–Ψ–≤ –≤―΄―à–Β―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α, ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É. –≠―²–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Β–Ι βÄî –≤ –≤―΄―¹―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ–Ψ―¹―¨–Β, –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –™–ΦβÄΠ –≥–ΦβÄΠ ―É –•―é–Μ–Η –¦–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Μ―¨ –±―΄–Μ –±―Ä–Α―² –•–Α–Ϋ-–•–Α–Κ –¦–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Μ―¨, ―²–Α–Φ–±―É―Ä–Φ–Α–Ε–Ψ―Ä ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―à–Β―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α.
βÄ–ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨ –≤–Α–Φ,¬†βÄî –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–Μ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ, –Η–Ζ―É–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Β–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Η,¬†βÄî –≤―΄, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Μ―É―΅―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―¹–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –Φ–Ψ–Β–Ι –±–Α–±―É―à–Κ–Η –±―΄–Μ–Α –¦–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Μ―¨, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ ―è –Ψ –Ϋ–Β–Ι –Ζ–Ϋ–Α―é.
βÄ–£ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ë–Α―Ä-–Μ–Β-–î―é–Κ ―¹ –≤–Α―à–Η–Φ –¥–Β–¥–Ψ–Φ –•–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ–Ψ–Φ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ–Α –≤ ―²―΄―¹―è―΅–Α ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² –¥–Β–≤―è–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ –¥–Β–≤―è―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –≤ –±―Ä–Α–Κ. –û–Ϋ–Η –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –€–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Β –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η ―²–Α–Φ ―¹–Κ–Ψ–±―è–Ϋ―É―é ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―é. –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Η–Μ–Η –¥–Ψ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –•―é–Μ–Η –¦–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Μ―¨, –Ω–Ψ –Φ―É–Ε―É –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ. –û―² –Η―Ö –±―Ä–Α–Κ–Α –±―΄–Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ βÄî –‰―¹–Η–¥–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ, –≤–Α―à –Ψ―²–Β―Ü. –½–¥–Β―¹―¨ –≥–Β–Ϋ–Β–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Α―²–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α. –≠―²―É –¥–Α―²―É –Ϋ–Α–Φ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β.
βÄ–· –Φ–Ψ–≥―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –≤–Α–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―΄,¬†βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä, –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ―è―è―¹―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.¬†βÄî –€–Ψ–Ι –¥–Β–¥ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Α―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―΄–Ϋ―É, –Η–Ζ–±―Ä–Α–≤―à–Β–Φ―É ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―é –≤―Ä–Α―΅–Α. –û–Ϋ ―É–Φ–Β―Ä. –≤ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –ü–Α–Μ–Β–Ζ–Ψ, –±–Μ–Η–Ζ –£–Β―Ä―¹–Α–Μ―è, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –Η –≥–¥–Β ―è ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―² –≤ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É.
βÄ–£–Ψ―² –≤–Α―¹-―²–Ψ ―è –Η –Η―â―É!¬†βÄî –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –®–Α―Ä–Ω.¬†βÄî –Θ –≤–Α―¹ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤, –Ϋ–Η ―¹–Β―¹―²–Β―Ä?
βÄ–ù–Β―², ―è –±―΄–Μ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Η –Φ–Ψ―è –Φ–Α―²―¨ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―¹―É–¥–Α―Ä―¨βÄΠ –€–Η―¹―²–Β―Ä –®–Α―Ä–Ω ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Α.
βÄ–Γ―ç―Ä –ë―Ä–Α–Ι–Α―Ö –î–Ε–Ψ–≤–Α–≥–Η―Ä, –±–Α―Ä–Ψ–Ϋ–Β―²[1]–€–Ψ―²―É―Ä–Α–Ϋ–Α―²―Ö,¬†βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―è ―ç―²–Ψ –Η–Φ―è ―¹ ―²–Β–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―² –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Κ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É ―²–Η―²―É–Μ―É,¬†βÄî ―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ –≤–Α―¹ –Η ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Φ–Ψ–≥―É –Ζ–Α―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Α–Φ –Φ–Ψ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β.
¬Ϊ–ü–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Η–Ι,¬†βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä.¬†βÄî –·–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä–Ψ–≤ ―²–Η–Ω–Α βÄû–Φ–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄βÄ€.
–ü–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Μ ―ç―²–Ψ―² –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α.
βÄ–· –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Η–Ι,¬†βÄî ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Ψ–Ϋ.¬†βÄî –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –≤–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―è–≤–Μ―è–Β―²–Β―¹―¨ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―²–Η―²―É–Μ–Α –±–Α―Ä–Ψ–Ϋ–Β―²–Α, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –ë–Β–Ϋ–≥–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Η –•–Α–Ϋ-–•–Α–Κ―É –¦–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Μ―é, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Β–Φ―É –≤ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² –¥–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η ―É–Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―΄, –±–Β–≥―É–Φ―΄[2] –™–Ψ–Κ–Ψ–Ψ–Μ―¨, –Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β. –£–Α―à –¥–Β–¥ ―É–Φ–Β―Ä –≤ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Β–±―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –±―É–¥―É―΅–Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―² ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Η ―É–Φ–Β―Ä –≤ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –¥–Β–≤―è―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ϋ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Η –Ζ–Α–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η―è. –Δ―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Ψ –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Β–¥–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤. –û–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―¹–Β–Κ–≤–Β―¹―²―Ä–Ψ–Φ –Η –Ψ–Ω–Β–Κ–Ψ–Ι –Β―â–Β –Ω―Ä–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –•–Α–Ϋ-–•–Α–Κ–Α –¦–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Μ―è. –£ ―²―΄―¹―è―΅–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨―¹–Ψ―² ―¹–Β–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Ψ –Ω―è―²–Η―¹–Ψ―² –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ω―è―²–Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―³―Ä–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤. –ü–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Α –≤ –ê–≥―Ä–Β, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Α–Μ–Α―²–Ψ–Ι –≤ –î–Β–Μ–Η –Η –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Δ–Α–Ι–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ[3], –¥–≤–Η–Ε–Η–Φ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Η–Φ–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ψ, –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ―΄ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η –≤–Β―¹―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –±–Α–Ϋ–Κ. –£ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Ψ―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ ―Ä–Α–≤–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ω―è―²–Η―¹―²–Α–Φ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―¹–Β–Φ–Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α–Φ ―³―Ä–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Κ―É, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Α –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β –≤ –Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–Μ―è―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―¹―É–¥ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―é –≤–Α–Φ ―¹–≤–Ψ―é ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η―é –Κ –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―Ä–Β ¬Ϊ–Δ―Ä–Ψ–Μ–Μ–Ψ–Ω, –Γ–Φ–Η―² –Η –ö–Ψ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―¹―É–¥–Η―² –≤–Α―¹ –≤ ―¹―΅–Β―² –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Α –Μ―é–±–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Φ–Ψ–Ι.
–û―à–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ε–Η–Μ–Κ–Α –≤ –Ϋ–Β–Φ –≤–Ζ―è–Μ–Α –≤–Β―Ä―Ö, –Η ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Ψ–Κ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Η –Η–Ζ ¬Ϊ–Δ―΄―¹―è―΅–Η –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Α.
βÄ–ù–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β, ―¹―É–¥–Α―Ä―¨βÄΠ –ö–Α–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α–Φ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –≤―΄ –Ϋ–Α–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Β–¥?
βÄ–î–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η –Φ–Ϋ–Β,¬†βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –®–Α―Ä–Ω, –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω―΄–≤–Α―è –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Α–Κ–≤–Ψ―è–Ε―É.¬†βÄî –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―è –Μ–Α–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –≤–Α―à ―¹–Μ–Β–¥,¬†βÄî –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―², –Κ–Α–Κ ―è –≤–Α―¹ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α―é. –û―²―΄―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β, –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Μ―è –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤ ―²–Β―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Κ–Α–Ζ–Ϋ―É,¬†βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―³–Η―Ä–Φ―΄. –ù–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –±–Β–≥―É–Φ―΄ –™–Ψ–Κ–Ψ–Ψ–Μ―¨ –Φ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è ―É–Ε–Β –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―². –™–¥–Β –Φ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Η ―Ä–Ψ–Ζ―΄―¹–Κ–Ψ–≤! –Γ–Ψ―²–Ϋ–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –‰―¹–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ–Ψ–Φ. –· ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ–Α, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –≤―΅–Β―Ä–Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –≤ ¬Ϊ–î–Β–Ι–Μ–Η –Ϋ―¨―é―¹¬Μ –Ψ―²―΅–Β―² –Ψ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α, –Ϋ–Α―²―΄–Κ–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Γ–Α―Ä–Α–Ζ–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –≤―΄–Ω–Α–Μ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤ –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ–Η –Η –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Η, –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –¥–Β–Μ―É –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Β, ―è ―¹ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –î―É―ç ―É―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ϋ―É–Μ –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –ß―É–≤―¹―²–≤―É―è, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ϋ–Α–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥, ―è –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –ë―Ä–Α–Ι―²–Ψ–Ϋ –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ―΄ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α; ―²―É―² ―É–Ε ―è ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –£―΄ –Ε–Η–≤–Α―è –Κ–Ψ–Ω–Η―è –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Β–¥–Α –¦–Α–Ϋ–Ε–Β–≤–Ψ–Μ―è, –Β―¹–Μ–Η ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ―É ―¹ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ –Κ–Η―¹―²–Η –Η–Ϋ–¥–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α –Γ–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ βÄî –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β.