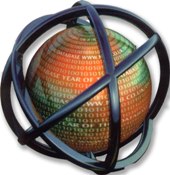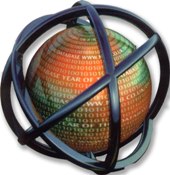Георгий Вайнер
Умножающий печаль
Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Екклесиаст
По законам нынешней жизни, если в первом акте на стене висит ружье, значит, до начала спектакля из него уже кого-то застрелили.
Милицейский взгляд на чеховский театр
Сергей Ордынцев: экстрадиция
— Ты очень хитрый парень, — сказал Пит Флэнаган, повернул руль налево, и мы покатили в сторону Трокадеро.
Спорить с ним бессмысленно, как забивать лбом гвозди. Да и вообще разговаривать неохота. Жестяной пузырь машины был заполнен щемящей золотой песней саксофона «Птицы» Чарли Паркера, протяжной, сладкой, плотной, как облако из сливочного мороженого.
Через окно я рассматривал скачущее отражение нашей машины в зеркальных витринах — черный юркий «ситроен» с проблесковым синим фонарем на крыше.
Его тревожный пульсирующий свет был неуместен в этом мягком воскресном утре, еще не увядшем от подступающей жары, от потной людской суеты, не задушенном синеватым угаром автомобильного дыма.
— Я не хитрый, — ответил я Флэнагану, когда мы выскочили на набережную и погнали по правому берегу. — Я задумчивый. По-русски это называется «мудак»…
— Правда? — переспросил на всякий случай Пит, хотя ему было все равно.
— Абсолютно, — заверил я серьезно. — Так и запомни: захочешь русскому сказать приятное, смело говори: вы, мол, месье, мудак… Это русский эвфемизм понятия «доброжелательный задумчивый мудрец».
— Запомню, — пообещал Флэнаган и повторил вслух:
— Мьюдэк…
— Во-во! Так и говори.
Слева над рекой торчала Эйфелева башня, на которой полыхало неживыми белыми сполохами электрическое табло — «До 2000 года осталось 534 дня».
И что? Что теперь делать?
Воздетый в безоблачное голубое небо, фигурно скрученный железный перст торжественно и грозно предупреждал ни о чем — если бы там, в туманном небытии, через 534 дня должно было что-то случиться, от нас бы это тщательно скрыли. Мы живем в замечательное время, когда никого ни о чем заранее не предупреждают. А раньше нешто предупреждали? Разве что пророки о чем-то жалобно просили народы. Да кто же их когда слушал? Интернета тогда на нашу голову не было.
— Пит, ты знаешь, что через 534 дня наступит новый век? — спросил я Флэнагана.
— А ты что, считал их? — усмехнулся Пит.
— Нет, я в управлении разведки подсмотрел секретный доклад — они предполагают, что это достоверная цифра. Ну, может быть, 536… Это ведь никогда до конца не ясно…
— Угу, — кивнул серьезно Флэнаган. — Скорее бы…
— А что случится?
— На пенсию можно будет уйти. Надоела мне наша собачья работа, — равнодушно сказал Пит.
— Да брось ты! Всякая работа — собачья. Не собачий только отдых, — глубокомысленно заметил я. — Но отдыхать все время нельзя.
— Это почему еще? — искренне удивился Пит.
— Отдых превратится в работу. Будешь мне жаловаться: надоел мне этот собачий отдых…
— Дурачок ты, — усмехнулся Пит. — Молодой еще…
Мы уже проехали Дефанс, миновали громаду Большого стадиона, сквозанули на оторут 9 — в сторону аэропорта Шарля де Голля. И от этой утренней воскресной пустоты, от желто-голубого света, окутывающего город золотистой дымкой, от печально-сладкой музыки Чарли Паркера, от никнущей малахитовой зелени бульваров охватывало меня чувство щемящей грусти, смутного ощущения прощания, разлуки надолго, может быть, навсегда.
— Что будешь на пенсии делать, Пит?
— Жена присмотрела домик в Провансе. Там и осядем, наверное…
— А домой, в Шотландию, не тянет?
Флэнаган пожал плечами:
— Там уже нет моего дома… Там — скромный риэлэстейт. Старики умерли, ребята выросли, разъехались. Приятелей встречу на улице — не узнаю…
— Тогда покупай в Провансе, — разрешил я. — Буду к тебе наезжать, съездим в Грасс, там дом Бунина…
— Какой-нибудь новый русский?
— Нет, это очень старый русский…
— Богатый? — поинтересовался Пит.
— Умер в нищете.
— Странно, — покачал головой Пит. — Я не видел во Франции бедных русских.
— Оглянись вокруг. Вот я, например…
— Потому что ты — доброжелательный мудрец, задумчивый мьюдэк, — утешил Пит.
— Вот это ты очень правильно заметил, — охотно подтвердил я.
Город уплывал вместе с волшебной мелодией Паркера, которую почти совсем задушил, измял, стер тяжелый басовитый рык турбин взлетающих и садящихся самолетов. Индустриально-трущобная пустыня предместья, нахально рядящаяся под пригород Парижа.
— Я хочу рассказать тебе смешную историю, Пит…
Флэнаган, не отрывая взгляда от дороги, благодушно кивнул, наверное, сказал про себя по-английски: мол, валяй, мели, Емеля…
— Я в школе ненавидел учебу…
— Да, ты мало похож на мальчика-отличника, — сразу согласился Пит.
— На всех уроках я читал… Закладывал под крышку парты книгу — и насквозь с первого урока до последнего звонка. У меня не хватало времени даже хулиганить.
— Много упустил в жизни интересного, — заметил Флэнаган.
— Наверное. Я был заклятый позорный троечник — я никогда не делал домашних заданий и отвечал только то, что краем уха услышал на занятиях, читая под партой книгу. На родительских собраниях классная руководительница Ираида Никифоровна…
— Только у поляков такие же невыносимые имена, как у вас, — сказал Флэнаган.
— Не перебивай! Моя классная руководительница говорила маме: у вас мальчик неплохой, но очень тупой. Тупой он у вас! Тупой…
— Dumb? — переспросил Пит.
— Yes! Dumb, bone head — костяная голова, тупой!
Флэнаган захохотал.
— Вот ты, дубина, смеешься, а мама, бедная, плакала. Спрашивала растерянно учительницу: почему? Почему вы говорите, что он такой тупой? А Ираида Никифоровна ей твердо отвечала: это у вас с мужем надо спрашивать, почему у вас сын такой тупой!
Флэнаган взял со щитка голубенькую пачку «Житан», ловко выщелкнул сигарету, прикурил. Прищурившись, выпустил тонкую, острую струю дыма, покачал головой и сказал решительно:
— Это невеселая история, она мне не нравится…
— У вас, шотландцев, ослаблено чувство юмора…
Машина начала с мягким рокотом взбираться на спиральный подъездной пандус аэропорта.
— Это веселая история, — упрямо сказал я.
— Наверное, у вас, русских, действительно усилено чувство юмора, — пожал плечами Флэнаган.
— Ага! Как рессоры на вездеходе. Иначе не доедешь…
— По-моему, доехали, — сказал Пит, притормаживая у служебного входа.
Я взял с заднего сиденья свою сумку и повернулся к Флэнагану:
— Я рассказал тебе веселую историю. И для меня важную…
— Почему?
— Одна знакомая встретила недавно эту учительницу — Ираиду Никифоровну. Двадцать лет прошло — она старая стала, сентиментальная, все расспрашивала о наших ребятах, у кого что получилось, как жизнь сложилась. И моя знакомая по дурости сказала, что самая яркая, неожиданная судьба вышла у меня. Классная руководительница послушала ее, послушала обо всех моих прыжках и ужимках, вздохнула и подвела итог: «Как все-таки несправедлива жизнь. Ведь такой тупой мальчик был!»
Флэнаган открыл бардачок, достал плоскую фляжку и протянул мне:
— Возьми… Может, пригодится, это хороший деревенский бренди.
— Спасибо, друг…
Я приспособил фляжку в кармане куртки, хлопнул Пита по плечу и вылез из машины. Он наклонился к двери, опустил стекло и сказал:
— Это была невеселая история…
— Нет, это была веселая история, Пит. Просто мы с тобой догадались, что старая карга была права… Пока, дружище! — махнул рукой и, не оборачиваясь, пошел в аэровокзал.
«Ситроен» с резиновым колесным визгом погнал прочь, беззвучно разъехались стеклянные двери передо мной, и я вошел внутрь праздника.
Удивительное гульбище, полное света, музыки, вкусных запахов, веселой и тревожной беготни, экзотических пассажиров — каких-то полуодетых ликующих негров и растерянных заблудившихся шикарных господ. Я вошел в атмосферу звонкого и чуть испуганного ожидания смены воздушной и земной стихий, мелькания реклам, внушительной зовущей неподвижности огромных биллбордов, восторженного удивления от нескончаемого путешествия в прозрачных трубах стеклянных эскалаторов. А закончился праздник у дверей полицейского офиса, где усатый жандарм в опереточной форме спросил меня вполне драматическим тоном:
— Что вам угодно, месье?
— Я — старший офицер Интерпола Сергей Ордынцев, — и протянул ему удостоверение.
Жандарм долго внимательно рассматривал коричневую кожаную книжечку, перевел суровый взгляд с фотографии на меня, скромного предъявителя, снова посмотрел на фото и, к моему удивлению, все-таки возвратил ксиву.
— Да, месье Ординсефф, вас уже ждут…
В офисе было полно народу — полицейские в форме, детективы в цивильном, клерки из министерства юстиции, российский консул Коля Аверин и еще четверо русских. Трое из них, несмотря на вполне приличные недорогие костюмы тайваньского или турецкого производства, мгновенно опознавались.
Как русские, во-первых, и как менты — во-вторых. С толстыми буграми подмышечных кобур под пиджаками. Русские — в смысле бывшие советские. Дело, наверное, не в национальности.
Русский или татарин, вотяк или еврей — мы не растворяемся в европейском людском месиве. Будто пятая человеческая раса, существуем от других наособицу и отличимы от всех иных так же явственно, как белые, черные, желтые и краснокожие народы. Вот будет для будущих антропологов и этнографов загадочка — почему? В чем генетическая разница? Настороженное выражение лица? Колющий взгляд, исподлобья, в сторону — испуганный и атакующий одновременно? Не знаю. Никто не понимает. Я узнаю земляков в толпе даже со спины. По п